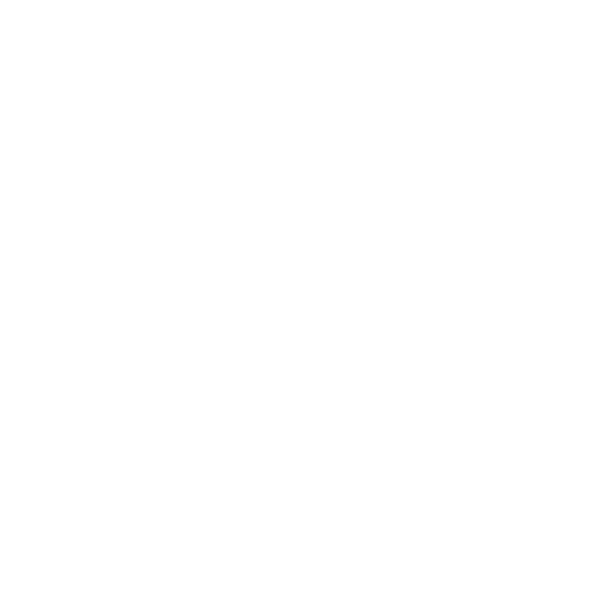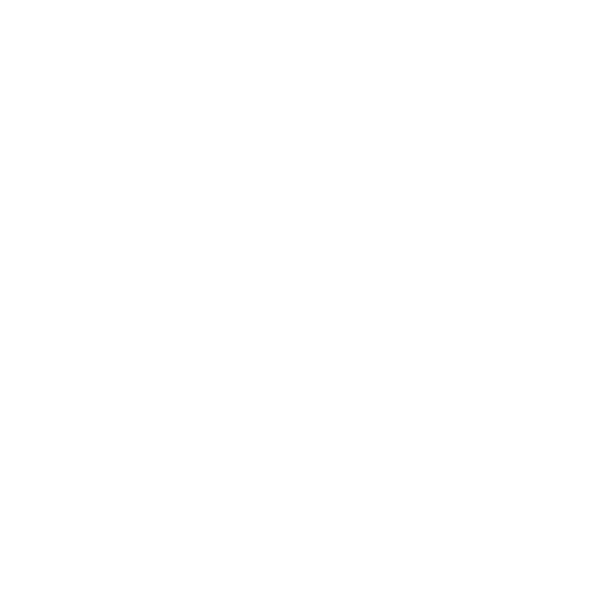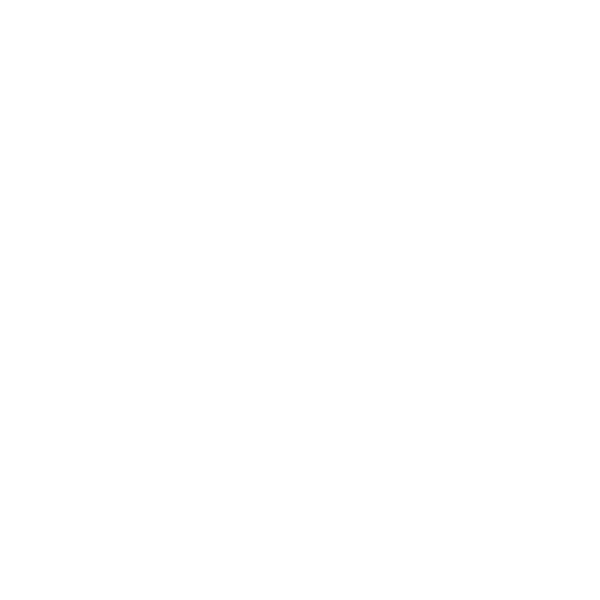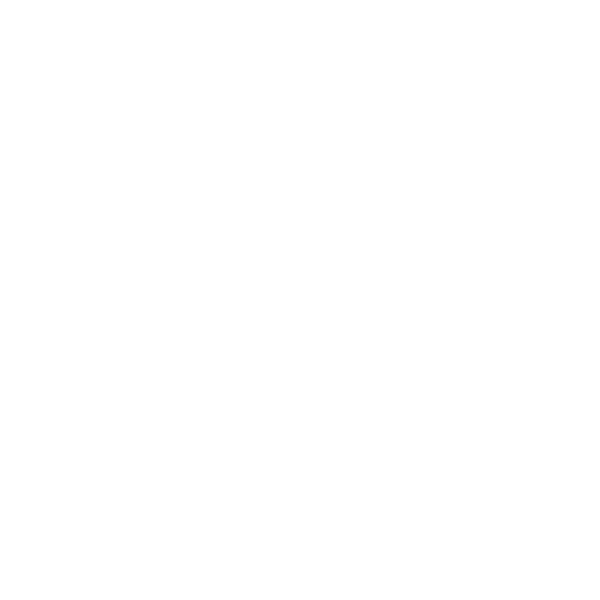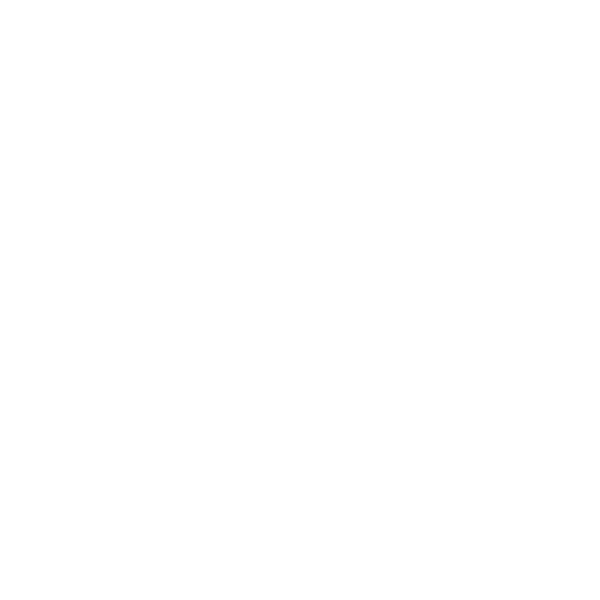История создания
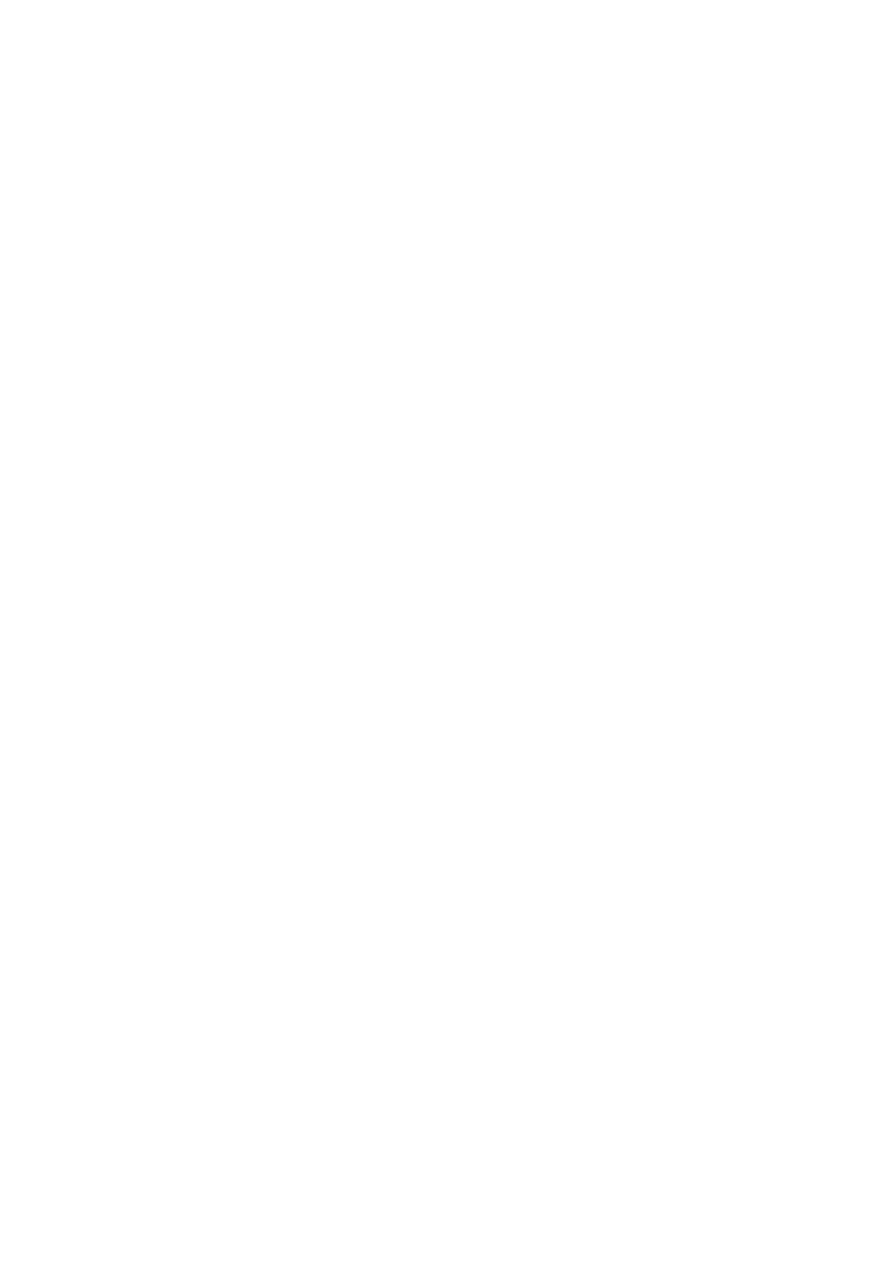
Екатерина Бородина
Моя коллекция начала складываться 20 лет назад. Сначала я не собиралась становиться коллекционером. Мне просто нравились красивые, изящные вещи, нравилось дарить их людям. Но постепенно, познакомившись с людьми, которые серьезно относились к собиранию фарфора, с антикварами, бывая на аукционах, я начала понемногу ориентироваться в этом новом для меня мире. Узнала про производство фарфора в России, про частные заводы Гарднера, Попова, Батенина, братьев Корниловых, Кузнецова, продукция которых была широко известна и популярна до революции. Меня поразило, что существующий до сих пор Императорский фарфоровый завод изначально выполнял заказы в первую очередь для императорского двора и членов царской семьи. Все глубже погружаясь в эту стихию, узнавая имена русских художников по фарфору, научившись отличать хорошее от плохого, я стала уже для себя приобретать не только отдельные предметы, но и целые сервизы.
В первое время в моих покупках не было осознанной системы. В зарождающуюся коллекцию попадали и изделия российских частных заводов (среди которых есть прекрасные экземпляры), и европейский фарфор. В частности, Мейсенской фарфоровой мануфактуры, на которую во многом ориентировался в начале своей деятельности Императорский фарфоровый завод. Именно на продукцию последнего я стала обращать все больше внимания. Как никакая другая, она была тесно связана с конкретными именами и фактами Русской истории.
В особенностях формы, орнаментов, сюжетов росписи сервизов, принадлежавших Екатерине II, Павлу I, Николаю I, Александру I, Александру II, Александру III, Николаю II, нашли отражение не только личные пристрастия их владельцев. В фарфоре российских императоров, как в зеркале отразились характерные черты того времени, когда они были созданы. Мы понимаем, как менялись вкусы и настроения в обществе, ощущаем ход истории.
В особенностях формы, орнаментов, сюжетов росписи сервизов, принадлежавших Екатерине II, Павлу I, Николаю I, Александру I, Александру II, Александру III, Николаю II, нашли отражение не только личные пристрастия их владельцев. В фарфоре российских императоров, как в зеркале отразились характерные черты того времени, когда они были созданы. Мы понимаем, как менялись вкусы и настроения в обществе, ощущаем ход истории.
А ещё, фарфор Императорского завода по-новому открыл для меня архитектуру дворцовых ансамблей Санкт-Петербурга и его окрестностей. Многие сервизы ИФЗ предназначались для конкретных членов царской фамилии, и их судьба тесно связана с принадлежавшими им дворцами. Я объехала их все, расширяя и углубляя свои знания об истории России, истории Дома Романовых. Среди его многочисленных представителей меня особенно заинтересовала фигура моей тезки, великой княжны Екатерины Павловны. Дочь Павла I и родная сестра Александра I, «принцесса Тверская», как называли Екатерину, на мой взгляд, сегодня незаслуженно забыта. Было приятно узнать, что не так давно в Твери прекрасно отреставрировали великолепный дворец — подарок Александра I великой княжне.
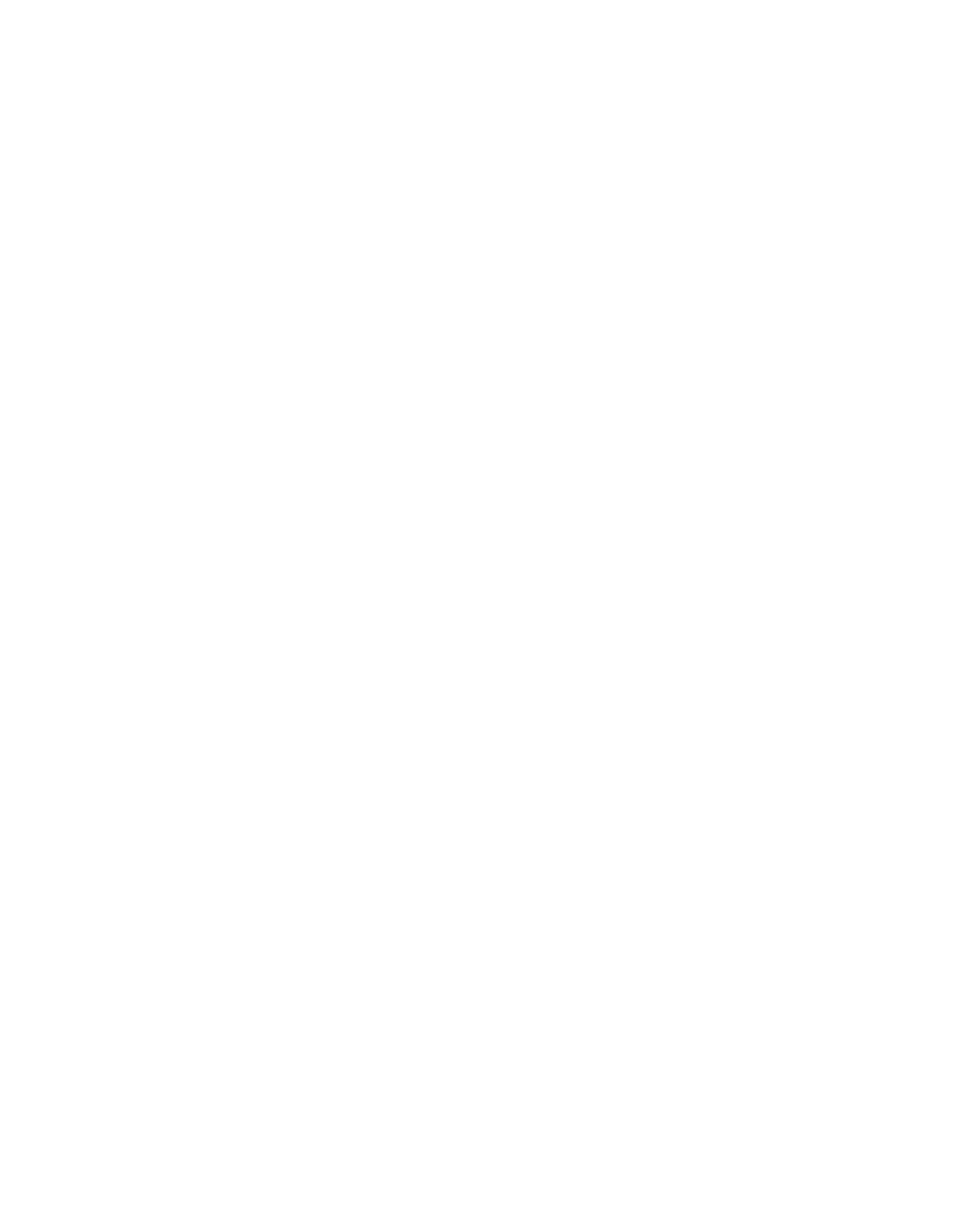
Неизвестный художник
Портрет великой княгини Екатерины Павловны,
королевы Вюртембергской
Первая четверть XIX века. Холст, масло. 67,5 х 53,0.
Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург
Портрет великой княгини Екатерины Павловны,
королевы Вюртембергской
Первая четверть XIX века. Холст, масло. 67,5 х 53,0.
Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург
Время шло и постепенно у моей, уже ставшей весьма значительной, коллекции появилась цель. Фарфор, как прекрасный повод узнать историю своей страны и людей, творивших эту историю. Теперь, приобретая на европейских аукционах драгоценные произведения русских мастеров, я не только радовалась их великолепию, но чувствовала, что возвращаю их на родину, домой.
Судьба отдельных сервизов, в советское время разлетевшихся по всему миру, сама по себе представляет огромный интерес. Моя особая гордость — так называемый Кремлевский сервиз, большое количество предметов из которого мне удалось собрать и привезти в Россию. Яркий, отличающийся насыщенными цветами, напоминающими краски русских икон, щедро украшенный золотой росписью — даже в царской семье его немного стеснялись. Но мне импонирует его вызывающая роскошь. Она как бы перекидывает мост между сегодняшней Россией и Российской империей через десятилетия вынужденной скромности советских времен.
Я очень люблю Приданный сервиз уже упоминавшейся великой княжны Екатерины Павловны, который мне посчастливилось приобрести во Франции. Мне дороги и другие экспонаты из моей коллекции, многие из которых вы увидите в этой книге. Все они заслуживают внимания, как с художественной точки зрения, так и историей создания и дальнейшего бытования. Мне кажется, что частица души их владельцев осталась в этих предметах, оживила их.
Судьба отдельных сервизов, в советское время разлетевшихся по всему миру, сама по себе представляет огромный интерес. Моя особая гордость — так называемый Кремлевский сервиз, большое количество предметов из которого мне удалось собрать и привезти в Россию. Яркий, отличающийся насыщенными цветами, напоминающими краски русских икон, щедро украшенный золотой росписью — даже в царской семье его немного стеснялись. Но мне импонирует его вызывающая роскошь. Она как бы перекидывает мост между сегодняшней Россией и Российской империей через десятилетия вынужденной скромности советских времен.
Я очень люблю Приданный сервиз уже упоминавшейся великой княжны Екатерины Павловны, который мне посчастливилось приобрести во Франции. Мне дороги и другие экспонаты из моей коллекции, многие из которых вы увидите в этой книге. Все они заслуживают внимания, как с художественной точки зрения, так и историей создания и дальнейшего бытования. Мне кажется, что частица души их владельцев осталась в этих предметах, оживила их.
Моя знакомая, психолог, когда я рассказала ей про свою коллекцию, спросила: «А Вы знаете, что в психологии тарелка символизирует душу?» Эта фраза меня зацепила, заставила вспомнить, как в детстве, лет в шесть, я впервые осознала, что мы не вечны. Не знаю, откуда у девочки, выросшей в не очень-то религиозной семье, появились такие мысли. Помню только, что почувствовала – души тех, кого давно уже нет, все равно здесь, рядом с нами. Они все видят, знают, что с нами происходит. И вот теперь, после слов психолога, глядя на витрины с сервизами, я чувствую на себе взгляд их прежних владельцев, испытываю ответственность перед ними.
Очень надеюсь, что однажды мне удастся осуществить свою мечту и открыть частный музей фарфора. И чтобы в этом музее можно было не просто полюбоваться прекрасными произведениями искусства, но и узнать много нового и интересного про историю России.
Очень надеюсь, что однажды мне удастся осуществить свою мечту и открыть частный музей фарфора. И чтобы в этом музее можно было не просто полюбоваться прекрасными произведениями искусства, но и узнать много нового и интересного про историю России.